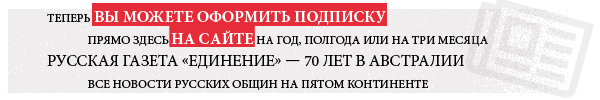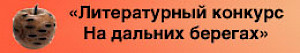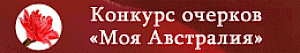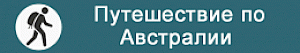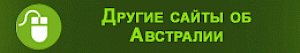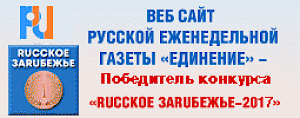Приют урсулянок
Отец из енисейских казаков, крепкий и статный, умер внезапно, почти не болев. Мне было 4 года. Помню только желтые, как лучи солнца лампасы. За похоронами не досмотрели, и я слегла с температурой под 40. Матери нужно бежать на работу в 4 утра, а меня не с кем оставить. Работала она в административном здании знаменитой не только на весь Харбин, но и на весь мир, компании «Чурин и Ко».
Рано утром мама полы протирала в конторе. Всегда был идеальный порядок. С кем ребенка оставить? Тогда уже пришла мысль отдать меня кому-то из родственников. Тетка рядом жила, но она отказалась, не хотела в дом такую тщедушную болезненную малютку. Богатая была, хотя бы едой не отказывала. Бывало, сбегаю к ней, покормит и потом играем с детьми во дворе, пока мама не вернется с работы.
− Аля, маленькая моя, − говорила как-то мать, укладывая меня поудобнее на ночь. − Пойдешь утром к тете Варе, не забудь муку захватить. Хозяин всем нам к празднику выдал.
Утром моя знакомая китаяночка, на год примерно старше, мы с ней вместе играли, стучится в окошко — меня вызывает.
− Ляля, − позвала она меня и, не получив ответа, повторила погромче. Ответ не последовал. Мама с утра прикрыла вьюшку в печи, чтобы тепло не так уходило, и я угорела.
Хорошо моя китаяночка побежала к тетке:
− Аля, Аля. − И разводит руками, не зная как сказать то, что хочет по-русски.
Собрался весь двор. Китаец-сосед, маленький, щупленький залез в нашу форточку, разобрался с английским замком, дверь отворил — вынесли еле живую, насилу успели меня откачать.
Одну дома решили не оставлять. Так и попала я в францисканский конвент. Помню только высокое строгое здание, глянувшее на меня всеми окнами, и длинные ряды тяжелых железных кроватей, рядами стоящих среди неукрашенных стен. Уткнувшись в подушку, я долго плакала одна в большой комнате, прислушиваясь к каждому шороху, так хотелось, чтобы мама пришла.
Наверное, я задремала и увидела маму, бросилась к ней, прильнула, а она своей натруженной теплой рукой гладила мои заплетенные волосы. И вдруг, я отчетливо ощутила, что это не сон − приоткрыла глаза и увидела излучавшее ласку лицо с лучиками морщин над глазами, одетой во все белое женщины, и теплая добрая рука гладила мои заплетенные волосы.
Мама пришла спустя несколько дней. По выходным два раза в месяц разрешалось посещение родственников. Дни и недели разлуки заставили меня повзрослеть. Окруженная заботой в приюте я все же не могла представить себе жизнь без мамы.
Отец ушел из жизни на Пасху. Отпевания ждали несколько дней. Нарядный, красивый отец лежал среди комнаты, казалось, спит, мне все время хотелось его разбудить. Я подходила и дергала его за штанину. Его смерть тогда мною осознана не была. Отец просто ушел. Мне было 4 года.
В воскресенье мама принесла большой, ею же испеченный пирог с яблоками. Мне его показали и даже дали попробовать. Румяная душистая корочка и отдающие легкой желтизной кусочки яблок внутри. Голод и сиротство обостряют вкус — ни до, ни после не припомню что-либо более вкусное.
Пирог был большой, поэтому мама отдала его старшей сестре, с тем, чтобы мне выдавали каждый день по кусочку за обедом и ужином.
− Ты не успеешь скушать пирог, − улыбаясь и обнимая меня, говорила мама, − как я снова тебя навещу.
Тогда я не знала, что правда бывает жестока. В следующий раз мама спросила меня про пирог и я честно ответила, вернее, как то само так получилось с досады, подняла свои тонкие плечики и со вздохом их опустила, да и по лицу моему было понятно, что пирогом тут не пахло. Наверное, мама поставила это сестрам на вид.
В этот день закончилось детство, и без того уже надтреснутое разлукой. В этот день непонятно за какую вину, возможно, за эту самую правду, меня и еще одну девочку, такую же маленькую, с застывшим страхом в глазах, спустили в сырой, промозгло-холодный погреб приюта.
Возможно это была просто «прописка», своего рода школа страха и подчинения, чтобы навсегда парализовать волю, лишить способности чувствовать, научить послушанию — бездушному раболепному исполнению любых приказаний наставников.
Сквозь поднятые половицы, служившие входом в подполье, нас опустили на земляной пол. Свет выхватывал из темноты огромные дурно пахнущие кадки с капустой и другими соленьями, груды наваленной картошки, моркови, мешки… Гулко опускались половицы над головой, свет исчезал частями, словно его отреза́ли острым ножом или бритвой. Мы жались к той части, где свет еще был, но и он с последней, уложенной высоко над нашими головами половицей, исчез, оставив нас во власти кромешной, без единого проблеска тьмы и такого же кромешного страха.
Ничего не понимая, мы тихо хныкали, пока нас вели к месту казни. Здесь же, вцепившись друг в друга, зажмурив глаза, как будто, открыв их можно увидеть что-то еще более страшное, мы зарыдали. Другая такая же девочка, даже имени ее я не знаю, забилась в истерике, издавая истошные нечеловеческие вопли, в которых ужас и детское, невинное и наивное непонимание происходящего перемешались. Казалось, у тех, кто там наверху, сердца должны разорваться от сострадания, но никто не пришел и даже не заглянул в нашу ледяную затхлую тюрьму, в которую две четырехлетние девочки, как особо опасные преступницы, были заживо погребены без права на пощаду и апелляцию.
Та другая моя сокамерница вцепилась в меня, и я отчетливо чувствовала, как ее тонкие костлявые пальчики впиваются в руку нечеловеческой хваткой, и сама она, в своем оцепенении, даже, если бы захотела, не могла эти пальцы разжать.
Временами я впадала в забытье и уже не слышала пронзительных воплей и боли, не чувствовала холода, но слышала вдруг обострившимся слухом дробный, как барабанную дробь перед казнью, топот бесчисленных маленьких ног. Сначала осторожно, словно перебежками, замирая, к нам приближался кто-то неведомый, влекомый теплом человеческих тел и запахом еще не остывшей человеческой крови.
Крысы! Впрочем, тогда, не знакомые еще с этим видом существ, мы не осознавали кто нас окружает. Окружает в буквальном смысле. Круг становился все теснее и вот уже холодные цепкие лапки пробежали по ногам и рукам, чьи-то острые крепкие зубы, под пронзительный писк, впились в мои голые ноги, обутые в простые сандалики…
Далее помню сумрачный, сгустившийся, как кисель, свет над головой, неразличимые голоса, вцепившиеся в меня окоченелые пальцы той девочки и застывший ужас в ее широко раскрытых глазах.
Кто знает, как не сошли мы с ума, как выжили в этом аду. Больше никогда я не видела подругу моих невольных страданий и никогда более не ощущала себя совершенно счастливой и беззаботной, как когда-то в столь внезапно оборвавшемся детстве.
К вечеру поднялась высокая температура, началась пневмония, инфекция, занесенная укусами крыс, сделала все мое тело опухшим. Бессознательный бред, возможно спасший во тьме от безумия, сменялся минутами просветления, которые возвращали на землистое дно холодного погреба с его обитателями.
Мама, как всегда, пришла в выходные. В лазарет ее не пустили, не объяснили причин внезапной болезни. Сказали коротко: «Нельзя, карантин». Выйдя из здания приюта, более похожего на казарму, мама долго брела в забытьи по шумным харбинским проулкам, роняя горькие слезы навстречу восходящему солнцу. Как-то вяло и почти безнадежно пришла мысль пойти к крестному дочери. Невозможно всю эту боль носить в сердце, ее нужно излить.
Крестный, белый офицер, оренбургский казак — белая кровь и голубые лампасы, едва услышав о болезни и карантине, буквально вскочил, накинул наскоро шляпу и плащ. На улице подозвал двух рикш для себя и для мамы, и, не отпуская их у приюта, с одеялом, прихваченным из дома, поспешил в здание.
Как и маме, ему сказали те же сухие слова: «Посещение не дозволяется. У нас карантин». Услышав их, крестный невольно потянул руку к бедру. Так делал он всегда при наступлении сечи, и острая шашка не раз выручала его из беды. Словно опомнившись, с собой шашки не было, или решив, что эти бесчувственные сердца шашкой не просечешь, он свел во едино мохнатые брови, одним взглядом заставив ставшую в проеме сестру идти на попя́тную, ринулся в атаку. Окинув взглядом больничную палату, он нашел, скорее догадался, что это осунувшееся почерневшее лицо и распухшее до безобразия тело принадлежит его крестнице, сгреб меня в охапку, бережно укутал в свое одеяло и с видом, не терпящим возражения, направился к ожидавшим у входа извозчикам.
Всего этого я, конечно, не помню, все это крестный расскажет мне позже, а сейчас, еще не внеся меня в дом, он отправил кого-то за доктором. И, как оказалось, очень благоразумно и вовремя.
− Да-с, мои дорогие, − сказал доктор, приподнимаясь зачем-то на цыпочках, − могли не успеть, жизнь ее была на волоске, и эта ночь без нужных лекарств и ухода могла стать для ребенка последнею.
Крестный мой папочка — Кока Мика, как я звала его в детстве, решил оставить меня у себя, позволив тем самым маме работать и составлять свое будущее. Он окружил меня добротой и заботой, называл меня Лялькой, но даже он, воспитавший меня вместо дочери, не смог освободить мою цепкую детскую память от того леденящего страха и ужаса, застывшего в широко раскрытых глазах той второй девочки.
3 января 2020 года